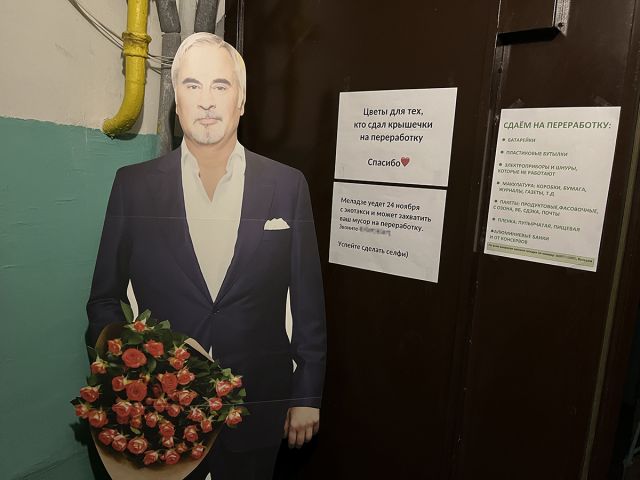НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «КЕДР.МЕДИА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «КЕДР.МЕДИА». 18+
Наша планета полнится бесчисленными вкусами и звукам, текстурами и запахами, оттенками и вибрациями, электрическими и магнитными полями, но любое живое существо заключено внутри своего сенсорного пузыря — или, как говорят ученые, «умвельта», — воспринимая разными органами чувств лишь малую часть необъятного мира.
Люди тоже заперты внутри своего умвельта — это все, что мы знаем, и нам кажется, что больше знать и нечего. Но это иллюзия. Мы не улавливаем слабые электрические поля, которые чувствуют акулы и утконосы. От нас скрыты магнитные поля, по которым ориентируются малиновки и морские черепахи. Мы не способны, в отличие от тюленя, пройти по незримому кильватерному следу проплывшей рыбы. Мы не чувствуем воздушные потоки от жужжащей мухи, которые чувствует блуждающий паук. Наши уши глухи к ультразвуковым сигналам грызунов и колибри, как и к инфразвуковому рокоту слонов и китов. Наши глаза слепы к инфракрасному излучению, которое воспринимают гремучие змеи, и к ультрафиолетовому, которое воспринимают птицы и пчелы.
В своей книге «Необъятный мир» лауреат Пулитцеровской премии, научный журналист Эд Йонг выводит нас за границы нашего умвельта и пробует вообразить, каково чувствовать эхо порхающей бабочки, электрический заряд цветка или гидродинамический след давно уплывшей сельди. Книга знакомит с самыми последними открытиями в области сенсорной зоологии и рассказывает, чем грозит животному миру звуковое и световое загрязнение окружающей среды и чем интересуется наша собака у ближайшего столба. Марсель Пруст писал, что «единственное подлинное путешествие — это не путешествие к новым пейзажам, а обладание другими глазами». Книга Эда Йонга дает нам возможность попутешествовать именно таким образом.

А еще это книга о животных как животных. Животные — это не дублеры человека, они сами по себе. «Полноценные и завершенные, они располагают продолжениями тех чувств, которые мы утратили или никогда не имели, они внимают голосам, которые мы никогда не услышим», — писал американский натуралист Генри Бестон.
Издательство «Альпина нон-фикшн» выпустило перевод книги «Необъятный мир. Как животные ощущают скрытую от нас реальность». Публикуем отрывок из нее.
Неугодное чувство. Боль
<…>
Ученые, занимающиеся зрением или слухом, могут предъявлять изучаемым животным изображения и звуки. Тем, кто изучает боль, приходится вредить своим подопечным — ради знаний, которые, возможно, позволят обеспечить этим животным более комфортное существование. Исследователи стремятся сократить число подопытных до минимума, но их приходится использовать столько, сколько необходимо для статистической значимости результатов. Такая работа — серьезное моральное испытание и зачастую очень неблагодарное дело. «Людям кажется либо что животные ощущают боль в точности как мы, и поэтому тут просто нечего исследовать, либо, что они, в отличие от нас, не ощущают боли, и поэтому тут просто нечего исследовать, — рассказывает Робин Крук. — Промежуточного отношения, когда человек осознает свое незнание, почти не встретишь».
Проблемная природа исследований боли лучше всего видна на примере рыб. В начале 2000-х гг. Линн Снеддон, Майк Джентл и Виктория Брейтуэйт впрыскивали в губы форели пчелиный яд или уксусную кислоту (то самое вещество, которое придает вкус уксусу). Эти несчастные — в отличие от счастливчиков, которым впрыскивали физиологический раствор, — начинали тяжело дышать. Они на несколько часов переставали есть, ложились на засыпанное гравием дно аквариума и вертелись с боку на бок. Некоторые терлись губами о гравий или о стенки аквариума. Они переставали сторониться незнакомых объектов, то есть теряли бдительность, как будто на что-то отвлекаясь, причем этот эффект пропадал, когда им впрыскивали морфий. Снеддон с коллегами не понимали, как эти действия, которые продолжались довольно долго после укола, можно отнести к простой ноцицепции. Они отчетливо видели муки боли.
Эти исследования, результаты которых были опубликованы в 2003 г., произвели настоящий переворот. До этого и в научных статьях, и в журналах о рыбной ловле, и в текстах группы Nirvana продвигалось представление, что рыбы не чувствуют боли. Предполагалось, что биться на крючке рыбу заставляют рефлексы, а не страдание. Никто не знал даже, есть ли у рыбы ноцицепторы, пока Снеддон и ее коллеги не установили, что есть. Она вспоминает, что в начале своих исследований спрашивала рыболовов и будущих ветеринаров, испытывают ли рыбы боль. «Очень немногие отвечали утвердительно», — говорит Снеддон. А теперь, спустя 17 лет накопления свидетельств обратного, «почти все признают, что испытывают».
Если у рыбы срабатывают ноцицепторы, сигнал отправляется в те области мозга, которые отвечают за научение и другие действия, более сложные, чем простые рефлексы. Когда рыб щиплют, бьют током или впрыскивают им токсины, они совершенно определенно ведут себя не так, как обычно, на протяжении нескольких часов, а то и дней — или до тех пор, пока не получат болеутоляющее. Ради него или ради того, чтобы избежать дальнейшего дискомфорта, они готовы на жертвы. В одном эксперименте Снеддон установила, что
данио-рерио предпочитают аквариумы, где есть растения и гравий на дне — пустые им не интересны. Однако, если им впрыскивали уксусную кислоту, а в воде пустого аквариума растворяли болеутоляющее, они отказывались от привычных предпочтений и выбирали скучную, но обезболивающую среду.
В другом исследовании Сара Миллсопп и Питер Ламинг приучали золотых рыбок питаться в определенной части аквариума, а потом били их током. Рыбы кидались наутек и не приближались к этому месту в течение нескольких дней, оставаясь все это время без пищи. В конце концов они возвращались, но это происходило быстрее, если они испытывали голод или если удар током был не сильным. Даже если само бегство было рефлекторным, позже они взвешивали «за» и «против» возможности избежать дальнейших мучений. Как писала Брейтуэйт в своей книге «Больно ли рыбам?» (Do Fish Feel Pain?), «у нас есть много свидетельств в пользу того, что рыбы чувствуют боль и мучаются не меньше, чем птицы и млекопитающие».
Тем не менее ряд убежденных оппонентов эти доводы не принимают. Они обвиняют Снеддон и других в антропоморфизме, в привычке смотреть на рыб в своих экспериментах человеческими глазами. Более вероятно, доказывают они, что рыбы действуют неосознанно. В конце концов, их мозг ни на что осознанное и не способен. Наш мозг прикрыт сверху, словно гриб шляпкой, плотной нейронной тканью под названием «неокортекс». Он устроен как оркестр, в котором множество разных секций музыкантов — специализированных отделов — совместными усилиями исполняют музыку сознания и элегию боли. Но у рыб неокортекса нет, тем более высокоорганизованного. «Неврологическая прошивка рыбы обеспечивает бессознательную ноцицепцию и эмоциональный отклик, но не осознаваемую боль и чувства», — писали в 2014 г. семь скептиков в статье, озаглавленной «Рыбам действительно больно?» (Can Fish Really Feel Pain?).
Ирония в том, что этот довод сам по себе антропоморфичен. Он строится на наивном предположении, что для ощущения боли любому животному требуется неокортекс, поскольку именно так обстоит дело у человека. Но если это верно, то боли не чувствуют и птицы, ведь у них нет неокортекса. По той же ошибочной логике у птиц не должно быть и прочих психических процессов, коренящихся в неокортексе, — таких как внимание, научение и многих других, которые у них определенно имеются. В процессе эволюции животные часто находят альтернативные способы решения одних и тех же задач и используют разные структуры для выполнения одних и тех же функций. Поэтому доказывать, что рыбы не чувствуют боли, потому что у них нет «человеческого» неокортекса, — это все равно что утверждать, будто мухи не видят, потому что у них нет похожего на фотокамеру глаза.
Однако зерно истины в доводах оппонентов есть: мы не можем принять за аксиому то, что испытывать боль или другой сознательный опыт способны все животные.
Не всякая жизнь обязательно обладает сознанием. Оно возникает при наличии нервной системы, и если неокортекс для этого, может, и не требуется, то достаточно заметные вычислительные мощности все же нужны.
Для сравнения: у крабов и омаров за ритмичные сокращения желудка отвечает пучок из примерно 30 нейронов, тогда как у червя-нематоды C. elegans есть всего 302 нейрона на все про все. Способна ли нематода испытывать субъективные переживания, имея лишь на порядок больше нейронов, чем крабу требуется для одного только пищеварения? Маловероятно. «На каком-то этапе для этого просто перестает хватать мощности нервной системы, — говорит Робин Крук . — Но какую мощность считать достаточной?» 86 млрд нейронов, как у человека; 2 млрд, как у собаки; 79 млн, как у мыши; 4 млн, как у гуппи, или 100 000 как у дрозофилы? Крук подозревает, что 10 000 нейронов, как у голожаберного моллюска, будет маловато, но «никто вам не скажет, что нужно, например, минимум 10 057 нейронов», объясняет она.
Значение имеет не просто количество нейронов, но и связи между ними. В человеческом мозге разные секции нашего кортикального оркестра соединены благодаря сотням тысяч нейронов. Эти связи и позволяют нам исполнять полнозвучную симфонию мучительного переживания, объединяя сенсорные сигналы с отрицательными эмоциями, дурными воспоминаниями и всем прочим в том же духе. Мозг насекомых связями не изобилует. Ноцицепторы дрозофилы соединяются с отделом мозга, играющим ключевую роль в научении, — он называется грибовидным телом. Однако от грибовидного тела к другим отделам мозга ведет всего 21 исходящий нейрон. То есть муха вполне может научиться избегать ноцицептивного стимула, но прилагаются ли к этому уроку неприятные чувства, без которых немыслимы страдания у человека? У насекомых может в принципе не быть области мозга, отвечающей за обработку эмоций, такой как миндалевидное тело у человека. «Поэтому нам трудно понять, каким может быть субъективное ощущение боли у насекомого», — поясняет физиолог Шелли Адамо, изучающая поведение насекомых.
Но, с другой стороны, добавляет Адамо , откуда нам знать, как выглядит их эмоциональный центр? Учитывая, как мало мы понимаем в работе человеческого мозга, не говоря уже о прошивке мозга других животных, пока еще рановато делать категорические утверждения о том, какие неврологические особенности требуются для ощущения боли. Тем более что некоторые животные демонстрируют поведение, явно выходящее за пределы возможностей их примитивного мозга.
В 2003 г. в североирландском городе Киллили биолог Роберт Элвуд случайно разговорился в пабе со знаменитым шеф-поваром Риком Штайном. «Нас обоих интересуют ракообразные, — сказал он Штайну в какой-то момент. — Я изучаю их поведение, а вы их готовите». И Штайн тут же спросил: «А боль они чувствуют?» Элвуд предположил, что нет, но наверняка сказать не мог. И поскольку этот вопрос не давал ему покоя и после, он начал искать на него ответ. «Я подумал: разберемся быстренько и двинемся дальше, — вспоминает он. — Но вышло не так».
Элвуд изучал раков-отшельников, которые в изобилии водятся на европейских побережьях и прячут свое мягкое брюшко в бесхозных раковинах. Раковина для такого рака — огромная ценность, поскольку без нее он беззащитен. Но, как выяснили Элвуд и его коллега Мирьям Аппель, если бить рака слабым током, он покинет свое убежище. Это бегство выглядело чисто рефлекторным, однако рак-отшельник бросал раковину не всегда.
Чтобы выгнать его из предпочитаемой им витой раковины-литторины, требовался удар током посильнее, чем в случае менее желанной плоской раковины. А если раки чуяли в воде запах охотящихся на них хищников, вероятность бегства из раковины уменьшалась вдвое.
«И я понял, что это не рефлекс», — рассказывает Элвуд. Бегство — это осознанное решение, которое рак-отшельник принимает, взвесив информацию из нескольких источников.
Кроме того, раки-отшельники еще довольно долгое время после удара током вели себя не так, как прежде. После бегства они, несмотря на свою уязвимость, не возвращались в раковину и нянчили тот участок брюшка, на который пришелся электрический разряд. И даже если рак не выселялся из раковины, он охотнее и быстрее принимал новую, обходясь без обычного в таких случаях тщательного обследования. Эти результаты, по словам Элвуда, вполне согласуются с гипотезой боли, однако нам неоткуда узнать, что в действительности чувствуют в этот момент ракообразные. «Меня часто спрашивают, ощущают ли боль крабы и омары, — подытоживает Элвуд , — и теперь, отдав исследованиям пятнадцать лет, я отвечаю: “Может быть”».
Ракообразные — эволюционные кузены насекомых, обладающие настолько же примитивной нервной системой. Тем не менее у Элвуда раки-отшельники демонстрировали отнюдь не примитивное поведение. Чем объяснить такую нестыковку? Если действия животного не соответствуют предполагаемым возможностям его мозга, мы переоцениваем его поведение или недооцениваем его нервную систему? Снеддон и Элвуд доказывают второе. Шелли Адамо склоняется к первому. И совершенно непонятно, кто тут прав или правы все.
«Может быть, размеры мозга — это ложная улика, и зря мы с ними так носимся», — делится со мной Адамо . Сама она считает, что правильнее сосредоточить внимание на эволюционных выгодах и издержках боли. Под издержками она подразумевает энергетические затраты, а не муки. Эволюция подталкивала нервную систему насекомых к минимализму и эффективности, втискивая в крошечную головку и тельце как можно больше вычислительных мощностей. Дополнительная психическая способность — допустим, сознание — требует больше нейронов, которые истощат и без того скудный энергетический бюджет. Эту цену живое существо будет готово заплатить, только если взамен получит важное преимущество. А какая выгода может быть от боли? С эволюционным преимуществом ноцицепции все предельно ясно: это система сигнализации, позволяющая животному обнаруживать угрозу для здоровья или жизни и принимать меры для защиты. Происхождение боли гораздо менее очевидно. В чем адаптивная ценность страдания? Чем не устраивает простая ноцицепция? Некоторые ученые предполагают, что неприятные эмоции могли усиливать и закреплять воздействие ноцицептивных ощущений, побуждая животных не просто сиюминутно спасаться от вредоносного фактора, но и учиться избегать его в дальнейшем. Ноцицепция голосит: «Уходи!» Боль добавляет: «И не возвращайся!» Но Адамо и другие доказывают, что животные прекрасно учатся избегать опасности безо всяких там субъективных переживаний. В конце концов, посмотрите на роботов.
Инженеры создали роботов, способных вести себя так, будто им больно, учиться на отрицательном опыте и избегать искусственно созданного дискомфорта. В случае животных такое поведение расценивается как свидетельство боли. Однако роботы демонстрируют его без всяких субъективных переживаний. Это не значит, что мы вслед за Декартом провозглашаем животных бездумными и бесчувственными автоматами. Как говорит Адамо, «ни один робот не сможет сравниться по сложности с насекомым». Она имеет в виду, что нервные системы насекомых в своем эволюционном развитии стремились к тому, чтобы обеспечивать сложное поведение простейшими средствами, а роботы — это наглядный пример максимальной подобной простоты. Если нам удается запрограммировать их так, чтобы они выполняли все гипотетически обеспечиваемые болью адаптивные действия, не закладывая в эту программу сознание, наверняка эволюция — гораздо более виртуозный новатор, располагающий гораздо большим временем, — развивала минималистичный мозг насекомых в том же направлении. Поэтому Адамо и считает ощущение боли у насекомых (или ракообразных) маловероятным. По крайней мере, их ощущение боли будет сильно отличаться от нашего. То же самое относится к рыбам. «На мой взгляд, что-то у них должно быть, но что? — рассуждает Адамо. — Возможно, совсем не то, что у нас». Это принципиально важный момент. Полемизирующие по поводу боли у животных часто исходят из того, что животные либо чувствуют в точности как мы, либо не чувствуют ничего, то есть относятся к ним либо как к уменьшенным копиям человека, либо как к изощренным роботам. Это ложная дихотомия, однако она неистребима, поскольку трудно представить себе что-то среднее.
Мы знаем, что у людей бывает разный болевой порог, точно так же, как знаем, что у кого-то бывает менее острое зрение. Но качественно иной вариант ощущения боли представить себе так же трудно, как и лишенное картинки зрение гребешка.
Может ли боль существовать без сознания? Если убрать из боли эмоции, останется ли простая ноцицепция или некое промежуточное чувство, на которое у нас не хватает воображения? Боль легче, чем другие чувства, позволяет забыть, что она может быть разной, и даже если мы помним об этом, нам трудно представить, какой именно.
В сентябре 2010 г. Евросоюз распространил положения о защите животных, использующихся в научных целях, на головоногих — группу, включающую осьминогов, кальмаров и каракатиц. Головоногие, будучи беспозвоночными, обычно не подпадают под действие законов, оберегающих позвоночных лабораторных животных, таких как мыши или обезьяны. При этом нервная система у них гораздо обширнее, чем у большинства других беспозвоночных: если у дрозофилы 100 000 нейронов, то у осьминога — 500 млн. Они демонстрируют в своем поведении ум и гибкость, которые и не снились некоторым позвоночным, таким как пресмыкающиеся и земноводные. И, как отмечено в директиве Евросоюза, «имеются научные доказательства их способности ощущать боль, страдание, стресс и длительное негативное воздействие». Для Робин Крук , которая, работая с головоногими, слыхом не слыхивала о таких доказательствах, это заявление оказалось полной неожиданностью. Судя по всему, власти Евросоюза исходили из того, что явно обладающее интеллектом животное должно быть способно страдать. Однако на тот момент никто не был уверен даже в наличии у них ноцицепторов, что уж говорить о боли. «Между тем, что было к тому времени известно науке, и тем, что было известно науке по мнению законодателей, зияла огромная пропасть», — рассказывает Крук.
Она принялась сокращать эту пропасть, начав с Doryteuthispealeii — 30-сантиметрового кальмара, которого добывают в Северной Атлантике. Он часто теряет кончики своих щупалец — либо в схватке с соперниками, либо попавшись в клешни краба. Крук сымитировала эти увечья с помощью скальпеля. Как и ожидалось, искалеченные кальмары тут же кидались прочь, выпустив отвлекающее облако чернил, и меняли окраску, сливаясь с окружающей обстановкой. Несколько дней спустя они все еще улепетывали и прятались быстрее, чем обычно. Но, как ни удивительно, они совершенно не пытались трогать, нянчить или оберегать свои раны, как поступают люди, крысы и даже раки-отшельники. Ничто не мешало им дотянуться до культи любым из оставшихся семи щупалец, но они этого не делали.
Что еще удивительнее, раненые кальмары в эксперименте Крук вели себя так, словно у них саднило все тело целиком. У человека и других млекопитающих болит сама рана или ушиб, а остальное тело боли не испытывает. Если я обожгу руку, любое прикосновение к ожогу будет болезненным, но, ткнув себя после этого в ступню, никакой боли я не почувствую. Однако, когда Крук повреждала у кальмара один плавник, ноцицепторы на противоположном приобретали такую же повышенную возбудимость, как на покалеченном. Представьте, что каждый раз, когда вы ушибете палец, вам будет больно дотрагиваться до любого места на теле, — вот так происходит у кальмара. «Когда их ранят, гиперчувствительность распространяется на все тело, — объясняет Крук. — Из нормального состояния они переносятся в это, предположительно полностью пропитанное болью». Возможно, именно поэтому они не нянчат покалеченное щупальце. Они чувствуют, что ранены, но не могут определить, где именно.
Млекопитающим локализация боли позволяет очищать и беречь поврежденные части тела, продолжая при этом заниматься своими обычными делами. Почему же кальмар лишен такого полезного источника информации? Одна из вероятных причин, по мнению Крук, состоит в том, что «кальмара в океане едят почти все». Хищные рыбы особенно любят охотиться на раненых кальмаров — то ли потому, что они более заметны, то ли поскольку они выглядят (или пахнут) как более легкая добыча. Возможно, благодаря переходу всего тела в режим тревоги они успешнее избегают нападения, которое может последовать откуда угодно. Кроме того, повышение чувствительности всего тела оправдано у тех животных, которые физически не могут дотянуться до большинства его участков. Какой им прок от понимания, что поврежден именно плавник, если они все равно ничем ему не помогут?
У осьминогов все иначе. В отличие от кальмара, они могут дотронуться до любой части своего тела. Мало того, они могут пошарить и внутри себя — например, погладить жабры (это как если бы человек мог запустить руку себе в горло и почесать легкие).
В отличие от кальмаров, которые привязаны к своим плавающим в открытом море стаям и не могут «взять выходной», осьминогу ничто не мешает отсидеться в уединенном убежище, пока ему не станет лучше. Вот им — располагающим и временем, и необходимой ловкостью, чтобы нянчить свои раны,
— имеет смысл ощущать, где именно эта рана находится. И как показала Крук , именно так и происходит. Осьминоги иногда отбрасывают часть поврежденного у кончика щупальца, и такая культя какое-то время остается более чувствительной, чем остальные конечности, так что осьминог нянчит ее в клюве. В своем последнем исследовании, результаты которого были опубликованы в 2021 г., Крук установила, что осьминоги избегают возвращаться туда, где им впрыскивали уксусную кислоту, и стремятся туда, где можно получить болеутоляющее. Наконец, после местной анестезии они перестают нянчить поврежденное щупальце. В этой последней статье Крук делает совершенно определенный вывод: «Осьминоги способны чувствовать боль».
О том, что именно из этого она исходит в работе своей лаборатории, Крук сообщила мне еще до публикации статьи. Она стремится повысить благополучие головоногих, поэтому, среди прочего, проверяет, действуют ли на них болеутоляющие. Крук сокращает число испытуемых до минимума (допустимого требованиями статистической достоверности) и старается причинять им минимальный ущерб. Рассуждать об этике исследований на животных, особенно когда эти исследования посвящены боли как таковой, тяжело, «но мне кажется, это и должно быть тяжело, — говорит Крук. — Мы должны переживать за животное, с которым экспериментируем, даже если наши действия для него безболезненны. Животное на эксперимент не соглашалось. Это я знаю, что моя конечная цель — уменьшить страдания животных, а существо, сидящее в этом аквариуме, об этом не подозревает».
Такого же мнения придерживаются многие другие ученые, специализирующиеся на исследовании боли. Они уверены, что, независимо от того, ощущают ли головоногие, рыбы или ракообразные последствия действий человека или испытывают что-то радикально отличное от нашего чувства боли, у нас уже накопилось достаточно данных, чтобы задействовать принцип предосторожности. «Вполне вероятно, что эти животные способны страдать, — говорит Элвуд, — и мы должны подумать о том, как избегать таких страданий».
Многие дискуссии о боли у животных крутятся вокруг простого вопроса, чувствуют ли они ее. За этим вопросом скрываются несколько невысказанных. Допустимо ли варить омара? Мне перестать есть осьминогов? А рыбу-то можно ловить? Спрашивая, ощущают ли животные боль, мы интересуемся не столько самими животными, сколько тем, как нам с ними обращаться. Это отношение мешает нам понять, что животные чувствуют на самом деле.
Боль характеризуется не только наличием или отсутствием. Шелли Адамо права, говоря, что нам нужно больше узнать о ее преимуществах и издержках. Боль существует не ради того, чтобы просто помучиться. Абстрактная боль не имеет смысла. Боль — это информация, с которой живые существа должны что-то делать. Не понимая их потребностей и ограничений, трудно правильно истолковывать их поведение.
Насекомые, например, часто делают страшные вещи, которые, на наш взгляд, должны причинять им невыносимую боль. Поврежденную ногу они не поджимают, а наступают на нее со всей силой. Богомол продолжает спариваться с пожирающей его самкой. Гусеница, которую гложет изнутри личинка осы-наездника, упорно жует лист. Таракан, если представится такой случай, съест собственные потроха. Все эти примеры «позволяют с уверенностью предположить, что, если болевое ощущение и имеется, адаптивного влияния на поведение оно не оказывает», — писал Крейг Айзманн с коллегами в 1984 г. Но, может быть, эти примеры говорят лишь о том, что насекомые готовы превозмогать боль? Может, тараканам и богомолам настолько важно получить питательный белок и размножиться, что они готовы терпеть муки, как терпят их спортсмены на соревнованиях и солдаты в бою? А может, гусеница не чувствует, что ее едят изнутри, потому что она все равно не сможет смягчить эту боль?
Вернемся еще раз к кальмару и осьминогу. Оба они головоногие, но уже больше 300 млн лет развиваются как две отдельные ветви, — примерно такой же временной промежуток отделяет млекопитающих от птиц. У них совершенно разные организмы и образ жизни, поэтому нет ничего удивительного, что и нервная система функционирует у них при травмах по-разному. А значит, вопрос не в том, ощущают ли головоногие боль, а в том, какие головоногие ее ощущают и как именно. То же самое относится к 34 000 известных видов рыб, 67 000 известных видов ракообразных и невесть скольким миллионам видов насекомых. Просто смешно рассматривать эти группы как однородные, если по опыту других чувств, таких как зрение и обоняние, мы знаем, что даже близкородственные виды могут воспринимать мир совсем по-разному.
Вместо того чтобы выяснять, существует ли боль в принципе, стоит задаться вопросом, который сформулировала в нашей беседе Кэтрин Уильямс: «При каких условиях и в случае каких стимулов быть способным на боль, испытывать ее и демонстрировать ее оказывается выгодно?» И тут мы обнаружим, что у норного голого землекопа боль проявляется совсем не так, как у охотящегося на скорпионов хомяка, а у «длиннорукого» осьминога — совсем не так, как у «короткорукого» кальмара. Скорее всего, мы увидим разные формы боли у общественных животных, которым есть кого звать на помощь, и у одиночек, вынужденных полагаться только на себя; у живущих недолго и потому имеющих мало шансов снова наступить на те же грабли и у долгожителей, у которых таких шансов предостаточно. И мы совершенно точно убедимся, что боль может очень сильно варьироваться у животных, вынужденных выдерживать экстремальные температуры — от испепеляющего жара до ледяного холода.