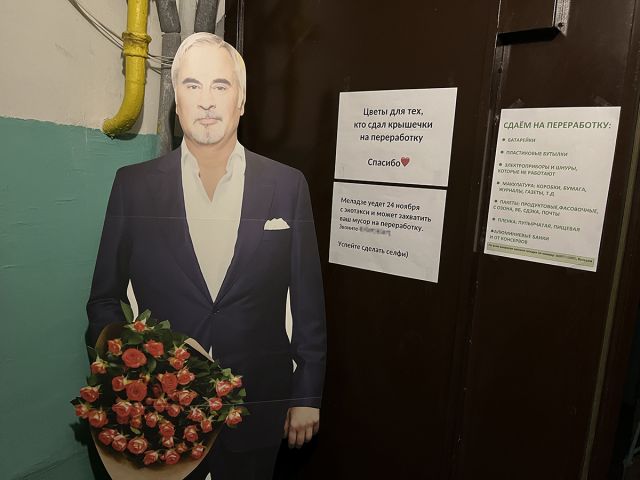НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «КЕДР.МЕДИА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «КЕДР.МЕДИА». 18+
6 июня 2023 года в зоне российско-украинского военного конфликта произошла самая крупная техногенная катастрофа со времен Чернобыля — разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции. Затопленными оказались порядка 600 квадратных километров, в том числе 59 особо охраняемых природных территорий и 67 населенных пунктов. Российская сторона сообщила о 60 погибших мирных жителях на левом берегу, международные СМИ сообщали не менее чем о 200.
Экологи и медики говорили о тяжелых последствиях и серьезных рисках:
- загрязнении вод Днепра и Черного моря нефтепродуктами, пестицидами с полей и болезнетворными бактериями с размытых кладбищ и скотомогильников;
- вероятности пылевых бурь из-за осушения Каховского водохранилища;
- массовой гибели животных — в основном мелких млекопитающих и насекомых (в том числе эндемичных), которые физически не могли покинуть места затопления, а также птиц, чьи гнездовья находились на пути потока воды;
- в конце концов, об угрозе безопасности Запорожской АЭС, реакторы которой охлаждались за счет исчезнувшего водохранилища.
Сегодня можно говорить, что многие из этих угроз не осуществились. Хотя и те последствия, которые стали реальностью, очень серьезны. Говорим об этом с экологом Евгением Симоновым*, зоологом Алексеем Василюком и физиком-ядерщиком Дмитрием Горчаковым.
Дисклеймер
Практически вся территория, попавшая под затопление в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, является зоной боевых действий. Это делает невозможным полноценное изучение последствий техногенной катастрофы. Эксперты признают, что оперируют ограниченным набором данных.
Без шансов на спасение
Скорость течения Днепра после разрушения плотины, по заявлениям российских чиновников, временно выросла в 10 раз. Неудивительно, ведь по горлышку, которое осталось от ГЭС, хлынули 18,1 млрд кубометров воды пустеющего Каховского водохранилища. Справиться со столь мощным потоком не могли не только мелкие млекопитающие вроде краснокнижных слепышей, мышей и тушканчиков, но и земноводные (например, тритоны), и даже рыбы. Значительную часть представителей фауны нижнего течения Днепра просто затопило или смыло в Черное море, где они погибли.
По словам эколога Евгения Симонова, с учетом моллюсков и рыбы, речь идет о десятках миллионов особей.
Фотография погибших особей краснокнижного тритона дунайского облетела многие СМИ.

Среди жертв наводнения оказался и скот: к 27 июня российские экстренные службы сообщили о сожжении 2,1 тысяч туш. Число утонувших собак, кошек и других домашних животных не раскрывается.
Зоолог Алексей Василюк отмечает, что масштабы гибели животных в настоящий момент особенно трудно оценить из-за продолжающихся вдоль Днепра боевых действий.
— С одной стороны, мы не можем утверждать, что какие-то виды животных в результате разрушения плотины исчезли. Во-первых, потому что ни один зоолог пока на этих территориях не проводил исследований: это физически невозможно, — говорит он. — Ботаники успевают за короткое время пребывания в потенциально опасной зоне собрать гербарий и учесть растения на мониторинговых участках, что позволит сделать важные выводы. Но с зоологами так не выйдет. Потому что для каждой группы животных, особенно по насекомым, нужен свой специалист. Это нужно человек 50, которые заедут, поставят какие-то ловушки, будут их несколько недель проверять каждые полчаса. Поставят сети, экраны и проекторы для ловли насекомых на свет. И будут светить несколько ночей в разные сезоны, чтобы посмотреть какие насекомые прилетят. В нынешних условиях это невозможно.
В то же время, отмечает Василюк, с научной точки зрения утверждать, что какой-то вид исчез, можно только спустя 50 лет после того как его представителей последний раз видели.
— Но все-таки имеющиеся знания о том, что происходило после разрушения ГЭС, позволяют делать определенные выводы, — замечает ученый. — Например, в зоне затопления обитало несколько видов грызунов, которые были эндемиками этой территории. Самый известный — слепыш песчаный. Есть опубликованный кадастр всех точек, где он обитал. И вот 50% этих точек попали в зону затопления. То есть мы понимаем, что минимум 50% его популяции погибло, потому что он живет под землей, плавать не умеет, и, кроме того, он вообще слепой, у него глаз нет. Шансы, что выжили какие-то слепыши в зоне затопления — почти нулевые. Та же часть популяции, которую не затопило, все равно обитает в зоне активных боевых действий, и мы не можем с уверенностью говорить, что она сохранна.
Наиболее значимой потерей Алексей Василюк называет черноморский подвид судака морского:
— Это настолько редкая рыба, что люди встречают ее раз в 5-10 лет. Когда ее нашли в 2018 году, это была первая находка за 10 лет: каждое обнаружение де-факто означает, что подвид до сих пор существует. И он встречался только в узкой полосе, где Днепр впадает в Черное море: там формируется зона средней солености. Но когда произошло разрушение ГЭС, залп пресной воды был настолько сильный, что она заполонила пространство аж до Одессы, то есть ушла за 150 километров от дельты Днепра. И, естественно, все, что было в море близ Днепра, этим залпом выбросило оттуда. И вероятность, что судак все это время придерживался среднесоленой воды… это невозможно. Наши ихтиологи говорят, что у него вообще нет никаких шансов. Это, конечно, парадоксально, что из-за наводнения исчез целый подвид рыб, но почти со стопроцентной вероятностью это так.
Также, по словам ученого, погибнуть могли еще 12 видов — представителей водной фауны, но чтобы утверждать это, нужно проводить полевые исследования. Что же касается птиц, гнездовья которых были затоплены, то их популяции, по мнению Алексея Василюка, восстановятся, потому что взрослые особи имели возможность улететь — погибли преимущественно птенцы.

«Необратимого с морем не произошло»
Неизбежным было и загрязнение Черного моря. Практически сразу после аварии стало известно, что вода унесла 150 тонн машинной смазки с площадки самой ГЭС, собрала пестициды с окрестных полей, а еще размыла 12 кладбищ и 2 скотомогильника. Ко всему этому добавились и трупы животных, которые просто не могли спастись от потока. В Одесской области из-за сильного загрязнения моря даже вводили запрет на купание. Однако по словам эколога Евгения Симонова, ситуация довольно быстро пришла в норму:
— Основными загрязнителями оказались органика и взвешенные вещества — было очень много погибших живых существ. Но токсичные вещества присутствовали в относительно небольших количествах. И в первые недели это действительно выглядело впечатляюще, но спустя год мы можем говорить, что ничего необратимого с морем не произошло.
Загрязнение, слабея, дошло до Румынии и затем сошло на нет. Море все-таки — огромная система. И сегодня можно говорить, что оно пришло в норму.
Были, конечно, отдельные примеры массовой гибели и морских обитателей — например, в Одесской области погибло около 4 000 тонн мидий. Но это, надо сказать, такие животины, которые довольно быстро восстанавливаются.
Атомная угроза
Одной из самых пугающих угроз после разрушения плотины стала вероятность аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Крупнейшая в Европе атомная электростанция, и без того находящаяся в зоне боевых действий, после осушения Каховского водохранилища потеряла основной источник охлаждения реакторов.
Однако ученые уже спустя месяц после аварии говорили, что ситуация на АЭС не выглядит критичной. «Во-первых, водоем-охладитель отделен от Каховского водохранилища плотиной. Поэтому какое-то количество воды в нем останется. Да, она будет убывать, но это не несет мгновенной угрозы — не сегодня и не завтра наступит ситуация, когда не будет воды в водоеме-охладителе, — объяснял инженер-физик Андрей Ожаровский. — Второе и важное: реакторы ЗАЭС находятся в режиме останова, не вырабатывают энергию, и это значит, что им нужно меньше воды для охлаждения. Именно потому, что станция не вырабатывает электроэнергию и в реакторах происходит лишь остаточное тепловыделение, непосредственной угрозы для ЗАЭС в настоящий момент нет».

Физик-ядерщик Дмитрий Горчаков в разговоре с «Кедром» спустя год после разрушения плотины подчеркивает, что Россия налаживает альтернативные способы охлаждения реакторов ЗАЭС.
«С сентября прошлого года были пробурены 11 скважин на территории промплощадки станции и за счет этого пополняются брызгальные бассейны — именно за счет их работы сейчас обеспечивается охлаждение оставшегося топлива в реакторах и бассейнах выдержки отработавшего топлива. Но при этом за год снизился почти на полтора метра уровень воды в пруде-охладителе. Он не особо сейчас необходим станции, но для его пополнения Россия собирается строить новую насосную станцию для подачи воды из Днепра. И есть риск того, что потенциально эта насосная станция и пополнение-пруда-охладителя, могут использоваться Россией для запуска станции», — говорит он.
Чем грозит запуск Запорожской атомной электростанции
Штатная приостановка всех шести реакторов Запорожской атомной электростанции существенно снизит риски радиационного загрязнения в случае разрушения первого контура АЭС в результате обстрелов или иных чрезвычайных ситуаций. Такое мнение в беседе с «Кедр.медиа» высказал физик-атомщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.
— Когда реакторы находятся в так называемом «горячем» состоянии, то есть в процессе выработки электроэнергии, давление в них значительно превышает атмосферное, достигая 16 мегапаскалей (нормальным атмосферным давлением принято считать 0,1013 мегапаскалей), — отмечает эксперт. — И если в таком состоянии будет поврежден первый контур: трубопроводы, парогенераторы или сам реактор, — то произойдет залповый выброс радионуклидов, а затем начнет плавиться ядерное топливо. Произойдет та самая «тяжелая авария».
Если же реактор находится в так называемом «холодном» состоянии, то залповый выброс радионкулидов исключен.
— Конечно, в контуре все равно содержатся опасные вещества. Конечно, его нельзя обстреливать и каким-либо образом разрушать, но если авария и произойдет, то ее тяжесть будет меньше, — говорит Ожаровский. — Разумеется, эффективнее всего угрозу аварии на Запорожской АЭС снизило бы прекращение обстрелов, принятие сторонами конфликта предложения генсека ООН об отводе вооруженных сил и создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.
Болезни обошли?
После разрушения плотины повысилась концентрация и в море, и в нижнем течении Днепра, болезнетворных бактерий: кишечной палочки (местами ее содержание превышало допустимые показатели в 28 тысяч раз), холеровидных вибрионов, возбудителей брюшного тифа.
«Единичные сообщения о заражении холерой имеются, но надо признать, что эта болезнь в целом характерна для Херсонской области. Это так называемый эндемичный регион, где холера встречается каждый год. Связаны ли новые случаи заражения с последствиями разрушения Каховской ГЭС, неизвестно: сейчас просто невозможно разделить, где бактерии смыло водой, и они попали к человеку, а где он заразился от иных источников», — говорил в интервью «Кедру» эпидемиолог Михаил Фаворов.
В то же время, вспышек заболеваний за год после разрушения плотины зафиксировано не было. Евгений Симонов подчеркивает, что достоверно неизвестно, действительно ли все обошлось без массовых заболеваний.
— Должен сказать, что возможности мониторинга по случаю военных действий были сильно ограничены. В связи с этим, какими были концентрации холерного вибриона или возбудителей брюшного тифа, сказать очень сложно. Кроме «индекса кишечной палочки», который просто считать все умеют. Кишечной палочки было много, со всем остальным — ну, теоретически, это южный степной район, где есть очаги самых разных очень заразных заболеваний… Но они совершенно не обязательно реализуются. Тем более при такой специфической форме переноса, как наводнение.
Словом, никто по поводу инфекций особо не работал, а если и работал, то ему не положено про это говорить. Данные о том, какой была реальная эпидемиологическая ситуация спустя год после прорыва плотины, просто негде искать.
Особенно в свете того, что застойная вода с возбудителями инфекций образовывалась преимущественно на левом берегу Днепра, который контролирует российская армия. Правый берег достаточно высокий и крутой, там мало пространств вблизи населенных пунктов, где вода могла бы застояться, — объясняет эколог.
Зато совершенно точно удалось избежать возникновения пылевых бурь, которые ученые называли одним из наиболее опасных возможных последствий разрушения ГЭС. Дело в том, что на дне Каховского водохранилища находилось большое количество ила, загрязненного промышленными отходами, попадавшими в Днепр с украинских промышленных предприятий.
«Пылевые бури будут разносить вредные вещества по окрестностям, люди будут их вдыхать. При худшем сценарии они будут продолжаться несколько десятилетий», — говорили эксперты. Эпидемиолог Василий Власов в разговоре с «Кедром» в июле 2023 года подчеркивал, что медицина не может предсказать, к каким заболеваниям способна привести пыль с донных отложений водохранилища: «Какие именно вещества ил содержит в настоящий момент — неизвестно <…> До настоящего времени никто в мире не имел опыта покрытия настолько больших пространств настолько опасным илом».
Но на помощь пришла сама природа.
— Пылевых бурь не случилось из-за очень удачного стечения обстоятельств. Во-первых, когда произошло опорожнение водохранилища, в среде было достаточно много семенного материала местных растений. Во-вторых, сам ил, несмотря на загрязненность, оказался очень плодородным. И на дне Каховского водохранилища, которое могло стать источником проблем, начала бурно всходить растительность, — говорит Евгений Симонов. — Попросту говоря, произойди все на два месяца раньше или на два месяца позже — не факт, что мы избежали бы беды. Но все факторы, которые могли помочь этого избежать, совпали.
Перспективы
Еще более примечателен тот факт, что природа зоны затопления и территории бывшего водохранилища начала восстанавливаться в своем естественном виде. По крайней мере, это касается растений. Здесь начинают расти именно те виды, которые были характерны для этой местности до 60-х годов прошлого века, то есть до строительства ГЭС.
— В первую очередь, всходят разные виды ив и тополей. Это именно те пионерные деревья, которые характерны для низовьев Днепра, — говорит Евгений Симонов. — Сложнее с дубами: они здесь тоже характерны, но пока на дне бывшего Каховского водохранилища не замечены. Впрочем, это совсем не означает, что они не появятся здесь в результате сукцессии. Главный вопрос — откуда возьмутся желуди.
— Конечно, то, что сейчас растет на дне бывшего водохранилища — это еще не полноценный лес. Но он так начинается. Это именно та экосистема, которая была здесь до появления водохранилища, но только очень молодая. И поскольку она молодая, в ней пока еще очень мало экологических ниш — нет, допустим, деревьев с дуплами, — замечает Алексей Василюк. — Ну конечно, пока там растут деревья толщиной с палец…
Но, к слову, самое толстое из обнаруженных — 5 сантиметров! Я, честно говоря, в шоке: вы представляете, что за год из семечки, занесенной с тополиным пухом, выросло 4-метровое дерево толщиной в 5 сантиметров? А это оказалось возможным!
И наши ботаники насчитали уже 63 вида растений, которые восстанавливаются на дне бывшего водохранилища. Конечно, это мало, но это только начало… А с восстановлением растительности мы ожидаем и постепенного восстановления животного мира. И уже видим, что птицы, питающиеся водной фауной, в этих местах — вдоль исторического русла Днепра — чувствуют себя довольно комфортно.

Сотрудники международной организации UWEC, объединяющей экологов и экоактивистов из России, Беларуси, Украины, Германии и США, отмечают, что и исторический рельеф на дне Каховского водохранилища оказался сохранным.
«Спутниковые снимки обнажившегося дна продемонстрировали сохранность сложной сети проток озер и островов, которые были базой для формирования разнообразных местообитаний бескрайней поймы, — пишут они. — До строительства ГЭС на этой территории обитали сотни видов птиц, сюда из Черного моря поднимались на нерест косяки рыб, здесь находилось не менее 90 исторических поселений, стертых с лица земли при затоплении. Люди и все живое благоденствовали на этой территории благодаря ненарушенным экологическим процессам в широкой пойме Днепра».
Де-факто, как ни парадоксально, сегодня эта территория получила шанс на восстановление. Евгений Симонов приводит три факта, подтверждающих, что процесс идет:
- Ивовый лес на дне бывшего Каховского водохранилища уже местами вдвое выше человеческого роста и занимает все новые площади.
- Этот лесной массив — уже самый крупный по площади в низовьях Днепра, и при этом из-за нахождения в пойме он устойчив к пожарам, наводнениям и засухам.
- У острова Хортица возле ДнепроГЭС сотрудники рыбоохраны задержали браконьеров с уловом осетра.
— Осетр — это такая рыба, которая живет и растет в море, а икру метать приплывает в реку, — говорит Симонов. — И поимка ее в Хортице означает, что природные процессы встают на место: осетр преодолел по Днепру 300 километров от Черного моря, чтобы нереститься там, где ему полагается.
Ученые сходятся во мнении: природа низовьев Днепра, пережившая тяжелую катастрофу, восстановится, если человек не помешает ей этого сделать.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом